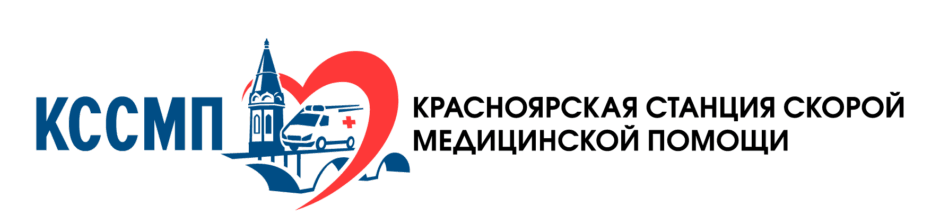Ежегодно в честь Дня рождения В.Ф. Войно-Ясенецкого в медицинских учреждениях проводятся «Лукинские чтения» — обсуждения вопросов медицинской этики и деонтологии. В 2021 году тема чтений: Уроки пандемии новой коронавирусной инфекции. Профессиональная этика в действии».
Казалось бы, медицинская этика понятие устойчивое. Однако пандемия, действительно, поставила перед врачами в частности, и системой в целом, вопросы, которые ранее не были настолько актуальными – это вопросы приоритетности в оказании помощи.
В Европе с проблематикой столкнулись раньше, чем в России (там раньше началась эпидемия) и уже 14 апреля 2020-го года были опубликованы серии статей, посвящённых этому аспекту медицинской этики, основанных на европейском опыте. В них приводятся доводы в пользу двух противоположных теорий: «спасать того, у кого больше шансов» и «спасать того, у кого меньше шансов», а также примеры отсылки к данной проблематике, возникавшие в истории медицины.
Отметим, что стандарта этического подхода нет.
Данные статьи предлагаются медикам к прочтению, как почва для размышления и дискуссии.
Михаил Эпштейн
Филолог, литературный критик
КОГО СПАСАТЬ, ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ СПАСТИ ВСЕХ?
Нынешняя пандемия ставит множество этических проблем, причем не умозрительных, а насущных, которые приходится решать каждый день и даже каждую минуту. Например, медицинская сортировка, или триаж, — отбор тех больных, которым нужно в первую очередь оказывать помощь в условиях дефицита врачей и оборудования. Как решить, кого спасать, кому предоставить прибор искусственного дыхания, а кого обречь на смерть? Моральный долг врача, как он обычно понимается, обращен к каждому отдельному индивиду: сделать все необходимое для его исцеления. Это отношение один на один. Но когда больных сотни и тысячи, как во время войн и эпидемий, начинает действовать другая, экстремальная этика, которая кажется чудовищной с точки зрения обычных нравственных норм. Приходится сознательно и целенаправленно предоставлять одних агонии и смерти, чтобы излечить других. Какими критериями руководствоваться?
В нью-йоркских больницах, задыхающихся от наплыва коронавирусных больных, используется система баллов, определяющая приоритетность пациента, исходя из того, сколько лет жизни (life years) может подарить ему интенсивная терапия (в соотношении с продолжительностью лечения). Идут в расчет общее состояние, возраст, наличие сопутствующих заболеваний (диабета, астмы и пр.). Если лечение может продлить жизнь одного пациента на пять лет, а другого — на три года, то ограниченные ресурсы предоставляются только первому.
Молодой и в целом здоровый человек оказывается в выигрышном положении по сравнению со старым и больным. Конечно, если молодой человек алкоголик или наркоман, то баллы у него вычитаются. Все происходит по известной евангельской притче:
«Кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мтф, 13:10).
Есть и другая этика. В штате Джорджия и городе Атланте, где я живу, катастрофически не хватает тестов на вирус. Но здесь порядок предпочтений совсем иной. В первую очередь к тестированию, а значит, и к дальнейшим медицинским процедурам, допускаются лица из группы наибольшего риска — обитатели домов престарелых, инвалиды, то есть наиболее слабые, уязвимые категории граждан.
Какая система более справедлива — ориентированная на самых сильных или самых слабых?
Первая воплощает утилитаризм, направление в этике, для которого высшая ценность — дать наибольшее счастье (а значит, и здоровье) наибольшему числу людей. Одни и те же ресурсы, если распределить их между самыми «излечимыми», могут продлить жизнь большего числа людей на большее число лет.
Вторая система — эгалитаризм: предоставить всем равные условия для выживания и благоденствия, а значит, проявить больше заботы о тех, кто больше всего нуждается, то есть выровнять доступ к благам медицины за счет преимущественной помощи наименее защищенным, компенсируя лечением их физическую недостаточность.
Есть еще ряд критериев, усложняющих эти системы. Например, с точки зрения утилитаристской этики медицинская полезность, то есть объем продленной физической жизни на единицу затраченных ресурсов, может дополняться социальной полезностью.
В первую очередь помощь должна оказываться тем, кто сам оказывает помощь, —
заразившимся врачам, сестрам, санитарам, а также работникам спасательных служб.
Поскольку они спасают других людей, они заслуживают приоритетного лечения, которое тем самым умножит благотворное действие медицины: вылечишь врача — вылечишь всех его будущих пациентов. Против такого расширения утилитаризма трудно спорить.
Но что если социальную полезность рассматривать еще шире, не ограничиваясь медициной и физическим выживанием, но имея в виду благо цивилизации и всего человечества? Политик, ученый, инженер, филантроп, артист — люди с огромным социальным капиталом, доказавшие всей жизнью свою полезность обществу. Не должны ли и они попасть в приоритетную группу, поскольку, помогая им, мы помогаем себе, обеспечиваем социальное, экономическое, научно-техническое, художественное развитие цивилизации в поствирусную эру?
Кого лечить: молодого человека без образования, водителя или разносчика пиццы — или всемирно известного деятеля науки или культуры, способного и в дальнейшем принести огромную пользу человечеству?
Очевидно, именно в этом вопросе утилитаризм особенно остро противостоит эгалитаризму, который усваивает некоторые черты и христианской, и марксистской этики, обращенной к бедным и угнетенным как к «соли земли»: именно они наследуют либо царство небесное, либо царство земного изобилия. Потому эгалитаризм и требует в первую очередь спасать слабых, пренебрегая сильными и здоровыми, которые сами о себе позаботятся.
Утилитаризм, напротив, исходит из того, что здоровым (в том числе молодым) и сильным (в том числе профессионально полезным и социально значимым) нужно помогать в первую очередь, поскольку от их выживания зависит благополучие и всех остальных. Усилия медиков должны быть направлены на укрепление тех приоритетов, которые обозначились в самом бытии природы и общества, а не опрокидывать их в пользу слабых и бедных. В каком-то смысле здесь проглядывает разница идейных установок американских республиканцев и демократов, хотя однозначно политизировать этику было бы неправильно.
А вот еще одна ситуация. В больницу привозят двадцать молодых людей с тяжелой формой коронавируса, а аппаратов искусственного дыхания — всего пять. Кого из них спасать? Помощь оказывается по мере поступления больных, даже если разница определяется секундами. Порядок может быть случайным: санитары замешкались у подъезда, скорая застопорилась в потоке машин… Но другого порядка не дано. Случай становится судьбой. Если же несколько пациентов прибыли одновременно, вопрос жизни и смерти, увы, решается бросанием жребия. Это тоже предусмотрено в рекомендациях по медицинской этике.
Эта нравственная дилемма не сегодняшняя, она мучила еще А.П. Чехова как врача во время эпидемии холеры 1892 года. Он писал: «Способ лечения холеры требует от врача прежде всего медлительности, то есть каждому больному нужно отдавать по 5‒10 часов, а то и больше.
Если начать действовать сверхактивно, то есть лечить всех по несколько минут, то все и умрут. А с должным усердием вылечишь одного — умрут остальные. И кого в первую очередь лечить — самых безнадежных (без помощи точно умрут) или обнадеживающих (а вдруг сами выживут)?
Здесь встает вопрос, далеко выходящий за пределы медицины. Этика, в простейшем определении, — наука о том, что такое хорошо и что такое плохо. Два главных и взаимно дополняющих принципа морали: не делать плохого и делать хорошее. Не причинять вреда и приносить пользу. Но что если эти принципы вступают в противоречие?
Допустим, в распоряжении врача есть доза лекарства, необходимая для излечения одного тяжелобольного. Но если ее разделить на пять частей, можно будет вылечить пятерых пациентов, которые находятся на более ранней стадии болезни и нуждаются в меньших дозах. Очевидно, что в данной ситуации этически оправданно использование лекарства для спасения большего числа жизней. При прочих равных условиях лучше помочь пятерым, чем одному.
Но доведем ситуацию до логического предела. Представим пятерых больных, у которых отказали жизненно важные органы: печень, почки, сердце, легкие, поджелудочная железа. Позволено ли убить одного здорового и разъять его тело на органы, чтобы пересадить их пяти больным и тем самым их спасти? Очевидно это противоречит моральной интуиции большинства людей. Иначе было бы этично создать бизнес по умерщвлению здоровых и использованию их органов для помощи больным. Оказывается, что «не навреди» весомее, чем «помоги».
Почему же этично излечить пятерых больных за счет одного, при этом допуская, что он умрет, — но не этично убить одного ради выживания пятерых? Дать умереть, то есть передать бытию право решать, — не то же самое, что убить, то есть самому оборвать чужую жизнь. Действует критерий: лучше не сделать доброе, чем сделать злое. Предоставить действительности право решать — и не брать на себя ответственности за жизнь, созданную не тобой.
Значит, между этими двумя принципами нет полной симметрии. Не по этой ли причине из десяти библейских заповедей только две сформулированы положительно, как призыв к действию (помнить субботу и почитать родителей), а восемь — отрицательно: «не делай» (не сотвори кумира, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй…)?
Почему НЕ делать плохое предписывается чаще, чем делать хорошее, и непричинение вреда важнее, чем принесение пользы?
Я вижу два возможных объяснения: богословское и философское.
Первое состоит в том, что на человеке лежит первородный грех и то, что от него исходит стихийно, по инстинкту, — это зло, поэтому главная задача морали — предотвратить вредное воздействие, наложить запрет. Пока человек не согрешил и не был изгнан из рая, заповеди были положительными: плодиться, размножаться и давать имена всему сущему.
Второе объяснение, философское, по сути, не противоречит первому. Бытие, как оно складывается независимо от нас, обладает некоторым приоритетом перед нашей волей. То, что уже существует, содержит в себе основание для своего бытия. Поэтому наша первая забота — не ухудшать то, что есть, и только вторая — улучшать. Такова моральная интуиция. Мир создан не нами, мы пришли в него после миллиардов других, и прежде всего нужно уважать ту волю, которая уже действует в нем. И лишь потом прилагать к нему волю, которая действует в нас.
Назовем это приоритетом бытия в этике, или бытийной постоянной, которая чуть-чуть искривляет пространство этики в пользу «не навреди». Это же дает консерватизму минимальный перевес над реформизмом — подчеркиваю, минимальный. Как известно, для Гегеля все действительное было разумным, а все разумное действительным. Но одинаков ли вес этих двух тезисов — или первый весомее второго? Действительность как точка отсчета обладает некоторой привилегией перед действием, даже вполне разумным. Нужно признать действительность чуть более разумной, нежели разум — действительным и, соответственно, требующим действия. Иными словами, деонтология, учение о должном, зависит от онтологии, учения о бытии.
Не этой ли этической интуицией, кстати, объясняется презумпция невиновности в законодательстве? Человек считается невиновным, пока его вина в преступлении не будет доказана. Опять это волшебное «не», предписывающее не предпринимать ничего, если нет сильных доводов в пользу противного (обвинения и наказания).
Интересный опрос провел профессор Йельского университета Джошуа Кноб (Joshua Knobe), один из основателей направления экспериментальной философии. Он описал ситуацию, когда руководитель компании дает санкцию на осуществление нового проекта, который сулит большую финансовую прибыль и вместе с тем окажет непредсказуемое воздействие на окружающую среду: то ли отрицательное, то ли положительное. При этом руководитель в обоих случаях поясняет, что побочные последствия его не интересуют — только прибыль.
Если речь идет о разрушительных последствиях, о вреде, причиненном природе, то подавляющее большинство участников опроса (84%) считают руководителя компании напрямую виновным, сознательно допустившим зло (intentional action). Если же побочное действие благотворно для окружающей среды, то большинство опрошенных (77%) утверждают, что у руководителя компании не было сознательного намерения творить добро. Мы наблюдаем всю ту же асимметрию: человека гораздо сильнее осуждают за причинение зла, чем одобряют за совершение добра, хотя в обоих случаях подчеркивалось, что побочные результаты в расчет не принимаются.
Добро как бы принадлежит природе самих вещей, а зло приписывается человеческой воле.
Вспомним, наконец, об эпизоде «Паук в писсуаре», который стал своего рода этическим экспериментом для известного современного американского философа Томаса Нагеля (Thomas Nagel). Заходя в туалет своего университета, Нагель неоднократно наблюдал паука, соткавшего паутинку в одном из писсуаров, где ему грозила смерть под напором жидкости. Сам паук не смог бы выбраться из писсуара по гладким фарфоровым стенкам, и сострадательный Нагель решил облегчить его участь: протянул бумажку, на которую переполз паук, и положил его на пол в углу туалета. Вернулся через два часа: паук сидел все на том же месте. Вернулся через два дня: паук был мертв. Был ли нравственно оправдан этот поступок, совершенный Нагелем из лучших побуждений, — или он потом заслуженно терзался чувством вины? Очевидно, что философ не мог предвидеть последствий своего поступка, не мог знать намерений паука.
Но отсюда вытекает мораль этого происшествия: бытие само по себе, особенно если это бытие существа, во внутреннее состояние которого нам не дано проникнуть, содержит в себе элемент собственного морального обоснования, заложенного не нами. Поэтому нужны веские причины, чтобы морально оправдать свое вмешательство в судьбу других существ и уж тем более людей.
Весь этот ряд примеров убеждает, что заповеди, то есть моральные критерии, в основном направлены на то, чтобы остановить действие, а не побудить к нему. Это напоминание прежде всего для тех, кто любит давать категорические советы и знает лучше других, что им нужно делать; кто стремится помогать, даже если их об этом не просили.
Следует подчеркнуть, что воздержание от действия не есть простое бездействие, порой оно требует даже больше воли и решимости.
Как у врачей в экстремальной ситуации, требующей нарушить одно из условий клятвы Гиппократа ради исполнения другого. «Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости». Приходится действовать к выгоде одного больного и во вред другого, то есть неоказанием помощи причинять ему смерть.
Нравственность — это область таких идеалов, которые именно в силу своей высоты почти всегда обречены на поражение. Наилучший совет при выборе правильного действия может дать сама действительность. Я никоим образом не призываю к пассивности, лености, смирению, безграничному терпению, моральному равнодушию: дескать, пусть все свершается само собой, без моего участия. В целом перевес действительности над нашей способностью к действию — минимальный и, как правило, определяется лишь порядком рефлексии: сначала взвесь отрицательные, а потом уже положительные последствия своего поступка. Поэтому всякий моральный активизм и рвение к добру, особенно массовому, системному, направленному на коренное изменение реальности, должны в первую очередь проверять себя предписанием, восходящим к той же клятве Гиппократа: Primum non nocere. Прежде всего не навреди. А уже затем приноси пользу.
КТО ДОЛЖЕН ЖИТЬ? COVID-19 СТАЛ ЭКЗАМЕНОМ ПО БИОЭТИКЕ
Наталия Шок
Пандемия коронавируса с новой остротой ставит перед человечеством вопрос, на который медицина и биоэтика ищут ответы с середины прошлого столетия: «Кто должен жить, если не каждый может»? Об этом напоминает специалист по биоэтике, доктор исторических наук Наталия Шок
В 1972 году вирусолог и лауреат Нобелевской премии Макфарлейн Бёрнет, вдохновленный успехами новых антибиотиков и иммунизации, предсказывал в своей книге: «Наиболее вероятный прогноз будущего инфекционных болезней таков — будет очень скучно». Тогда казалось, что эпидемии стали предметом для историков.
Однако скучно не стало. СПИД, атипичная пневмония, лихорадка Эбола и, наконец, COVID-19 — в жизнь человека прочно вошли тяжелые инфекционные заболевания и сопутствующие социальные эксперименты. Эпидемии, оказывая давление на социум, как бы «вскрывают» его, обнажая невидимые структуры, и демонстрируют то, что действительно важно и обладает реальной ценностью. С этим соглашается современный философ Джорджо Агамбен: «Общество проходит испытание кризисом, постепенно оказывается в мире, где все меньше признаков мирного времени…» История эпидемий предлагает два драматических сюжета: «желание назначить ответственного», сопровождаемое дискурсом вины и нарастанием социального конфликта, а также проблему «отсутствия чудодейственного средства», обещание о создании которого медицина никогда не могла выполнить.
В 1970-х годах в США происходило оформление стандартов этической экспертизы в клинических экспериментах на людях на фоне стремительного развития технологий биомедицины. Ученые задались вопросом: «Кто должен жить, если не каждый может?» Речь шла о доступе к новым дорогостоящим медицинским технологиям — трансплантация сердца, диализ, — которые смещали акценты выбора в медицине: не «между жизнью и смертью», а «между жизнью и жизнью». Иными словами, одной из задач социальной этики стало предложить относительно справедливые институциональные механизмы, в которых могли существовать «корыстные и предвзятые» люди. Медицинские и научные достижения постепенно превращались в новую религию биоэтики.
Текущая эпидемия внезапно и радикально разрушила все представления о норме не только в медицинской практике, но и в обществе. Особенно остро это коснулось врачей и вопросов распределения жизнеобеспечивающей терапии в условиях ограниченных ресурсов и отсутствия известного протокола лечения. Одной из главных биоэтических дилемм эпидемии коронавируса стало противостояние этики общественного здравоохранения, выражающееся в справедливом распределении ограниченных ресурсов и ориентации на общественную безопасность, и клинической этики, ориентированной на конкретного пациента. Врач действует, используя «правило спасения», — помочь каждому всеми доступными средствами. Чрезвычайные ситуации требуют от клиницистов изменения своей привычной практики.
Если посмотреть на практическую деятельность Совета Наффилда по биоэтике в Великобритании, который считается главным мировым исследовательским центром по биоэтике, то выясняется, что у них нет стандартного этического подхода или руководящих принципов, которым должны следовать рабочие группы, создаваемые в критических ситуациях. В разных докладах они следуют разным этическим принципам. Иными словами, каждый раз создается небольшая группа, принимающая решения масштаба «жизни и смерти» и разрабатывающая некий «этический компас» для конкретной ситуации. Но как же так, неужели нет объективных принципов и набора правил для любых ситуаций? Похоже, в принятии решений в области биоэтики мало что меняется в последние десятилетия.
В 1962-м журналистка Шана Александр опубликовала в журнале Life статью «Они решают: кому жить, а кому умереть» об экспериментальном отделении гемодиализа в одной из больниц Сиэтла (США). Главные герои материала — группа из семи человек (адвокат, священник, банкир, домохозяйка, чиновник, лидер профсоюза, хирург), которая получила название «Комитет по политике приема Сиэтлского центра искусственной почки при больнице Swedish Hospital». Это были первые опыты лечения гемодиализом с ограниченным числом аппаратов. Настал момент, когда необходимо было решить, кому назначить лечение. Другими словами, сделать выбор «между жизнью и жизнью».
Лечение было экспериментальным, шло тестирование нового оборудования, что повышало риски. Оно было дорогостоящим, и только 1 из 50 пациентов мог стать кандидатом. Необходимо было отобрать 10 человек, которые будут частью двухлетней пробной программы, чтобы определить надежность нового лечения. Автор писала: «Миллионы людей со «смертельными» заболеваниями могут получить второй шанс на жизнь… Но Новый Мир, в котором люди смогут иметь золотые сердца или стальные нервы, еще не настал. Тем временем должны быть приняты мучительные практические решения». Те самые семь человек, призванные принимать эти решения, работали анонимно, добровольно и без оплаты. Семь граждан фактически были «Комитетом Жизни и Смерти».
Это было время, когда у них не было никаких этических руководств, кроме собственной совести. Вряд ли они были счастливы. Им предстояло сразу договориться и выработать правила отбора в условиях, когда никто не мог быть уверен в чем-либо, но должен сделать выбор. Члены комитета так говорили о своих обязанностях: «Мы имеем дело с жизнью, которая поддерживается искусственно в целях эксперимента… прогресс в мире происходит благодаря существованию кризисов, а не их предвидению» (адвокат); «Я чувствовал, что был направлен принимать решения, которые не имею права принимать…» (священник); «Я, наконец, пришел к выводу, что мы не делаем моральный выбор — мы отбираем морских свинок для эксперимента… на мой взгляд, это ситуация — жизнь и смерть, осложненные ограниченностью денег. В этой ситуации наша функция — снять давление с врачей» (банкир). Этот случай вошел в учебники по истории биоэтики.
На фоне беспрецедентных мер мы сегодня немного слышим об этике. Следуя рекомендациям ВОЗ, многие страны внедрили всеобщее тестирование, изоляцию и другие меры социального дистанцирования, ограничивающие физическое взаимодействие индивидов. Вместе с тем есть множество отличий между странами в способах применения этих мер: кто-то вводит чрезвычайное положение, а кто-то обходится некоторым ужесточением контроля на границах.
Сегодня внимание к клиническим экспериментам и информированному согласию в них выше, чем к социальным директивам, которые несут в себе черты эксперимента. Возможно, мировая история еще не знала таких масштабных и далеко идущих мер, которые затрагивают каждого человека на таком глубоком уровне. В течение нескольких недель способность миллиардов свободно перемещаться и зарабатывать средства к существованию исчезла.
Еще недавно феномен социальной изоляции был частью экспериментов на грызунах, в которых фиксировалось, как разные типы социальной депривации влияют на биохимические и функциональные системы организма, выступая как стрессовый фактор. Следует ли думать, что экспериментальный сюжет из зоопсихологии может войти в нашу жизнь так же, как когда-то машина гемодиализа? Можно ли предположить, что едва различимо происходит конструирование чего-то нового, как некогда шло конструирование биоэтики в клинической медицине?
Историки хорошо умеют анализировать драмы прошлого, но не слишком сильны в предсказаниях. История человечества дает много примеров эпидемий, уносивших многие жизни. Вместе с тем история знает примеры паники и страхов от эпидемий, которые не оправдались. Одновременно, ввиду искажения приоритетов, игнорировались другие важные вопросы.
Президент Института Роберта Коха (Германия) Лотар Вилер считает, что пандемия коронавируса может задержаться еще на два года. По его мнению, появление вакцины ускорит борьбу с пандемией, как и любая другая «интервенция», однако сначала она будет доступна немногим.
Такая постановка вопроса имеет не только предметную, но и человеческую сторону. Недели карантина, отсутствие информации, противоречивые решения и некоторая «парарелигиозность» происходящего в мире уже повлияли на доверие в обществе — к правительствам, к системам общественного здравоохранения и, главное, на доверие к человеческому взаимодействию. Непонимание происходящего, невозможность контролировать собственную жизнь вызывают ощущение «экзистенциального вакуума», которое австрийский психиатр, бывший узник концентрационных лагерей Виктор Франкл характеризовал как «оскудение инстинктов» и «утрату традиций».
Новая реальность отсылает к роману Герберта Уэлса «Остров доктора Моро», где главный герой, долгое время находившийся на острове, наблюдал невероятные эксперименты и, вернувшись к обычной жизни, в конце говорит так: «И, как это ни странно, но с возвращением к людям вместо доверия и симпатии, которых следовало бы ожидать, во мне возросли неуверенность и страх, которые я испытывал на острове. Никто не поверил мне, но я относился к людям почти так же странно, как относился раньше к принявшим человеческий облик зверям».
Мы наблюдаем «свободное падение» доверия в мире. На этом фоне представляется важным задуматься о глобальной этике, так как именно «распределение здоровья и болезни» отражает то, как организовано общество и как люди относятся в нем друг к другу. Ученые, задействованные в исследованиях по этике здравоохранения по всему миру, предлагают руководства, чтобы помочь в чрезвычайных обстоятельствах национальным правительствам и глобальным организациям лучше и эффективнее думать об ответе на ситуацию. Принятие сложных решений «между жизнью и жизнью» — или «какие социально значимые блага нужно защитить» — требует публичности. В них могут и должны участвовать институты, уже созданные человечеством для решения подобных — хоть и куда менее масштабных — биоэтических задач в прошлом.